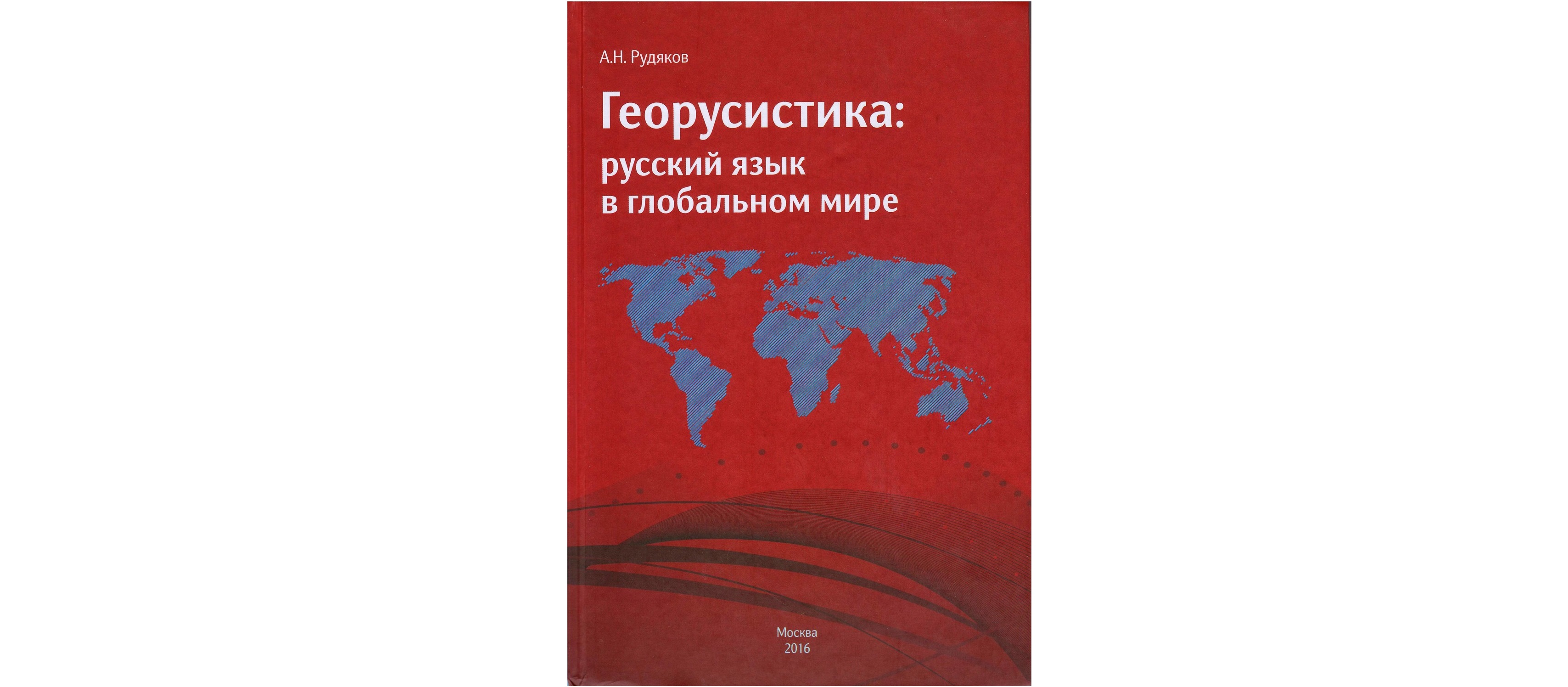Аннотация. Статья посвящена постановке вопроса о сущности лингвистического познания, в частности, тому, может ли продуцируемое сегодняшним языкознанием знание быть использовано для построения эвристически ценных моделей лексикона. На примере семантемы «стул» рассматривается ограниченность традиционного, субстранционального, подхода к интерпретации семантики. Обосновывается необходимость применения метода компонентного анализа для построения всесловарной иерархии сем, отражающей строение картины мира на метасистемном уровне.
Ключевые слова: функционализм, субстанционализм, метасистема, семантема, компонентный анализ.
Abstract. The article is devoted to formulation of the question about the nature of linguistic knowledge; in particular, if produced by nowadays linguistics knowledge could be used to construct a heuristic model of lexicon. As example, semanteme «chair» is taken to consider the limitations of traditional, substantialistic, approach to the interpretation of semantics. It is explicated the need to apply the method of component analysis to build an all-verbal hierarchy of semes, which reflects the structure of the world picture on the metasystem level.
Keywords: functionalism, substantialism, metasystem, semanteme, component analysis.
Я хорошо помню высказывание В.В. Налимова о специфическом характере продуцируемого лингвистикой знания: «Точные и естественные науки, развиваясь во времени, растут, как деревья: одни их ветви засыхают и опадают, другие разрастаются, и по мере того как дерево растет, его нижние части врастают в землю – уходят в область истории. Языкознание развивается не так – это мозаика ярких цветов на обширном лугу, и этот луг оказывается волшебным: после появления новых цветов старые не вянут, не теряют своей яркости и свежести. И все возрастающая яркость суждений приводит к появлению высказываний, которые воспринимаются как гротески, как кактусы в мире растений. Контраст в суждениях увеличивается, но проблема остается нерешенной…» [Налимов 2003: 46–47].
За этой вежливой характеристикой скрывается, на мой взгляд, разочарование «внешнего» потребителя языковедческой информации в достоверности лингвистического знания. Оказывается, что лингвистика это «наука для науки».
Дело в том, что лингвистам уютно внутри своего, во многом даже еще не лингвистического, а скорее все еще, филологического мира.
В этом мире все уже объяснено, все описано, по любому поводу можно найти ссылку на авторитет. В этом мире лавинообразно увеличивается вызывающее серьезные опасения за само будущее науки число работ, продуцирующих не знания, а тексты. В этом мире особой популярностью пользуются созерцание и любование внешней стороной языковых явлений и явное нежелание вникать в суть наблюдаемого. В этом мире вновь и вновь пытаются привлечь все новые и новые инновационные научные дисциплины в поисках панацеи для решения собственно языковедческих проблем. Потому что лингвистам достаточно уютно живется в тихом мирке синонимов и антонимов, концептов и методик преподавания, и мы охотно абстрагируемся от того, что общепризнанность не означает адекватность; что традиционность не подразумевает приближенность к истине. Что порождаемое лингвистикой знание предназначено для «внутреннего потребления» и не может удовлетворить реальные потребности других наук, пытающихся получить от нас нужное им знание и привычно это знание не обретающие.
Нам по-настоящему уютно только в «inner space» нашей науки.
Мы горды ее красотами и достижениями.
Но как мы выглядим со стороны? Почему во внешнем мире авторитет лингвистики, деликатно говоря, невысок? Почему лингвистика в общественном сознании занимает место, которое далеко не соответствует ее потенциальной значимости для человека и человечества? Почему мы все еще остаемся для социума наукой о «жи-ши», запятых и ударениях?
Да потому что мы удивительно немного для науки с многовековой историей можем дать «смежникам». Например, школьному учителю или преподавателю языка как иностранного. Мы, в большей или меньшей степени, умеем преподавать иностранный язык начинающим, позже начинается неразбериха. В средней школе мы небрежно относимся к изложению знаний о системе языка: в школьной программе палатальный звук [j] называют мягким. И хотя это полностью не соответствует сущности данной языковой единицы, это всех устраивает и на это никто не обращает внимания… (не представляю себе ситуацию, если бы в учебнике по химии азот назвали металлом). Мы «грузим» старшеклассников синтаксическим разбором сложных предложений с такой неистовостью, как будто это и многое другое – узко грамматическое по своей принадлежности – знание является квинтэссенцией лингвистического знания.
А что могут получить от нас представители точных наук и изготовители точных алгоритмов? Например, компьютерщики и программисты? Ссылки на высказывания наших авторитетов? Они им не нужны. Им нужны точные знания…
Я преувеличиваю?! Нисколько. Простой пример покажет это.
Допустим, мне нужно дать компьютеру знание значения слова «стул»… Какое именно знание мы сможем отыскать в нашем арсенале? Что в итоге лингвисты знают о слове «стул»? Что сможет полезного лингвист рассказать о нем информатику? «Рассказать» – значит дать знания об этом слове, которое «информатик» (здесь я должен повиниться перед специалистами самых разных областей знания, которых по своей филологической приблизительности именую «информатиками») сможет использовать для создания базы данных, столь нужной для развития многих областей. Каких именно? Искусственного интеллекта, машинного перевода, робототехники и многих других, требующих построения организованных каталогов знаний о мире.
Я думаю, что первым делом наш брат лингвист расскажет о грамматических свойствах единицы «стул». К сожалению, это не уникальная характеристика. Этимология тоже будет некстати.
Что дальше?
А дальше – ничего. Процитирует, что писали об этом слове И.И. Иванов, П.П. Петров или, что особенно важно для русистов, Джон Джонович Джонов. А если они о слове «стул» ничего не писали? Если столь любимая нами форма доказательства, как ссылка на авторитет, не сработает?
Тогда лингвист сможет указать, что у этого слова нет синонимов, антонимов, но есть то ли омоним, то ли второе значение (речь об еще одном слове с такой же формой и с ограниченной сферой употребления: вспомним повесть Бориса Полевого «Доктор Вера» («Каков стол, таков и стул») [Полевой 1980].
Укажет, что «стул» входит в тематическую группу со значением «мебель», но не сможет дать исчерпывающий список этой группы… Поищет работы о соответствующем концепте, но вряд ли найдет, потому что слово «стул» из нашей обыденности, из нашей повседневности, а концептологи и лингвокультурологи интересуются вещами высокими и патетическими.
Можно еще сказать, что в словарях слово «стул» располагается между словами «стукотня» и «стульчак». Но нужно сразу признаться, что в толковом словаре слова расположены по случайному – алфавитному – принципу, и эта информация адресату никакой пользы не принесет. Как не принесло бы пользы, если бы в учебниках истории великих людей характеризовали по росту и весу, а не по важности содеянного.
В сказанном нет преувеличений: именно так представляет свой объект изучения традиционная лексикология: словарь языка видится как слабо организованное множество слов, в котором удалось за много веков выделить слова тождественные или подобные по значению (синонимы) или форме (омонимы), с одной стороны, и не подобные, с другой…
Для меня очевидно, что утверждение о том, что «слово А есть синоним слова В», с точки зрения семантического анализа есть начало, а не итог разговора о конкретном слове. Когда-то я посвятил довольно много времени доказательству не синомичности синонимов. Нет слов, которые были бы тождественны по значению, за исключением таких, как, например, «языкознание» и «лингвистика».
Пора признать, что лингвистам нечего сказать о слове «стул». А ведь при этом декларируется, что слово – главная единица языка. И лексику мы воспринимаем именно как множество слов. И ничего другого кроме слова в системе видеть не хотим.
Нужно ли такого рода знание кому-нибудь, кроме самого лингвиста? Может быть, учителю? Или, не дай бог, айтишнику?
«Вы лукавите, – скажут мне филологи, – мы знаем значение слова стул. Оно закреплено в толковых словарях».
Давайте посмотрим, так ли это.
Значение слова «стул», а именно оно, прежде всего, будет интересовать потребителей нашего скудного лингвистического знания, в словарях определяется так:
— ‘предмет мебели – сиденье на ножках со спинкой, на одного человека‘ (СО);
— ‘род мебели: предмет на четырех ножках, без подлокотников, обычно со спинкой, предназначенный для сидения одного человека’ (БТС);
— ‘род мебели для сидения, снабженный спинкой (для одного человека)‘ (ТСУ);
— ‘мебель для одиночного сидения’;
— как в «Кошкин дом»: «это стул – на нем сидят»…
Там же мы найдем устойчивые словосочетания и несколько идиом.
Можно ли формализовать эти словарные толкования? Нет, нельзя. В них остались не выявленными многие важные признаки значения этого слова. Эти толкования не являются определением слова «стул», потому что, по моему глубокому убеждению, всякое определение есть характеристика сущности объекта, содержащее правила обращения с ним…
О выявлении различных признаков значения слова «стул» писал Л.В. Сахарный в книге «Как устроен наш язык» [Сахарный 1978]. Так, по его словам, если мы скажем, что «стул – это предмет, на котором сидят», то мы не сможем дифференцировать значения слов «стул» и «табуретка» – ‘род скамейки с квадратным или круглым сиденьем без спинки,употр. вместо стула’ (ТСУ).
Чтобы не быть табуреткой, стул должен быть со спинкой. Это – ‘со спинкой‘ – отличительный (дифференциальный) признак языкового понятия ‘стул’. Однако, если мы ограничимся определением ‘это предмет, на котором сидят, со спинкой‘, то это может быть не «стул», а «кресло»… Нужен еще один отличительный признак, чтобы разграничить значение ‘стул‘ от значения ‘кресло‘. И это – ‘без подлокотников’ и ‘с подлокотниками’… Но и это еще не все: если мы остановимся на ‘предмет, на котором сидят со спинкой и без подлокотников’, то мы рискуем перепутать «стул» и «скамейку»… Поэтому нужен еще один признак, а именно – ‘для одного человека’…
По сути дела, Л.В. Сахарный описал простейший случай использования метода компонентного анализа значения слова, в ходе которого исследуемое значение последовательно сопоставляется со смежными значениями. Метода компонентного анализа позволяет, как тогда считали, разлагать значение слова на по-разному именуемые компоненты или элементы значения (семы). Такой подход к исследованию значений слов не может не получить позитивной оценки. Он позволяет значительно точнее характеризовать значения, но… он чрезвычайно трудоемкий и «умоемкий», если браться за него по-настоящему. Именно поэтому лингвистика отшатнулась от этой непосильной для нее задачи и ушла в любование концептами. Кстати, интересно было бы послушать адептов этого направления о бытии-небытии концепта «стул». Наверняка там было бы упоминание и о двух стульях, на которых нельзя сидеть, и о 12 стульях, и о чем-то еще, что сразу не вспомнишь и что в высшей степени малополезно для решения тех задач, о которых мы говорили.
Я однозначно «за» компонентный анализ. Им занималась моя мать, им занимался я, это очень продуктивный метод, хотя – повторю еще раз – требующий чрезвычайных усилий для понимания того, что именно скрывается «за знаком». «В зазначье», как я для себя именую эту область. И еще одно: человек, потративший множество сил, таланта, времени на компонентный анализ и описавший значения слов, сталкивается с тем, что итог его усилий настолько же очевиден в конце, насколько неясен в начале (итоговая очевидность первоначально неочевидного).
Великолепный метод. Незаслуженно забытый и чрезвычайно действенный, если правильно использовать его результаты…
Что я имею в виду?
В рассуждениях Л.В. Сахарного, посвященных слову «стул», есть один очень характерный для традиционной лингвистики тезис, а именно: нет необходимости выделять отличительный признак ‘деревянный’, потому что нет слова, которое обозначало бы «не деревянный стул»…
Иначе говоря, тот или иной компонент значения может быть выделен только в том случае, если он дифференцирует значения разных слов!!! Это было бы верно, если бы семы на самом деле были элементарными составляющими значений слов.
Здесь возникает, по крайней мере, три принципиальных вопроса:
1. Почему речь идет только о значениях слов? Разве только слова имеют значения? Разве только слова человек использует для именования реалий? А как же множество словосочетаний, которые мы используем всякий раз, когда нам не хватает слов? И вообще, за словом ли «лезет в карман говорящий»?!
2. Так ли «прочно» существование семантического признака – семы – привязано к способу его выделения? Очевидно, что нет.
3. В масштабах какой по размеру лексической подсистемы можно адекватно описать значение отдельного слова? Ведь смысл многих компонентов словарного толкования «стул» оставался неопределенными. Что такое «предмет»? Что такое «мебель»? Что такое «сидеть»? Их толкования в словарях еще менее определенные, чем слова «стул».
Я не случайно обращаю внимание читателя на это показательное утверждение Л.В. Сахарного. Оно мне кажется краеугольным и поворотным для того, чтобы показать разницу в том, как видит словарь традиционная лингвистика, а как – функциональная. Именно с этой познавательной «развилки» начинается путь к получению того знания, которое нужно от нас информатике!!! И первый шаг – преодоление «словоцентризма» и субстанционализма восприятия глобальной системы словаря естественного языка.
Я очень хорошо это понимаю, потому что раньше я видел мир так же, как Л. В. Сахарный и многие другие лингвисты, воспринимающие свой объект в рамках традиционной субстанциональной научной парадигмы… Я анализировал большие группы слов и искренне считал, что именно так и должны происходить семантические исследования словаря языка. Если бы мы тогда смогли построить классификацию слов на семантических основаниях, это был бы огромный шаг вперед по сравнению с классификацией по алфавитному – формальному – порядку, принятому в наших словарях.
Но все же это была бы именно классификация слов, а не действующая модель номинативной системы языка.
Я расскажу, как мне удалось преодолеть словоцентризм и увидеть мир функционально. Я начинал свою вузовскую деятельность преподавателем РКИ. Мне предложили стать руководителем кандидатской диссертации аспиранта из Польши. Согласившись, я начал искать группу слов, которые мы подвергнем компонентному анализу. Схема диссертации была очевидна: выборка группы из словаря, компонентный анализ, компонентный синтез. Но жизнь подарила мне серьезное испытание, потому что аспирант из Польши Збигнев Буляж преподавал русский язык в институте физической культуры. И по требованию руководства института материалом его диссертации должна была стать только «спортивная лексика»…
С одной стороны, это было благом для меня как руководителя, потому что выбор лексической группы для компонентного анализа – это особой сложности задача, с другой стороны, когда Збигнев принес результаты первой выборки фактического материала, то оказалось, что в огромной группе названий лиц по спортивной специализации… практически не было слов!!!
Подавляющее большинство понятий этой сферы выражалось словосочетаниями… Там были «бегун», «прыгун», но не было однословных номинаций для множества реально существующих специализаций: «прыгун в высоту», «бегун на средние дистанции» и прочее, и прочее, и прочее… Помню, что радовался как ребенок слову «миттельштреккер» (‘бегун на средние дистанции’).
Тогда – в конце 20 века – никто даже не задумывался о компонентном анализе значения словосочетаний. Парадоксально, но факт: словосочетание как одна из важнейших наряду со словом единиц именующих исследовалась и исследуется в лингвистике исключительно как синтаксическая единица… И это тогда, когда подавляющее большинство номинаций в нашей жизни сделано именно с помощью словосочетаний.
Я понял, что старые концепции и теории «работают» далеко не для всех подсистем словаря. Они ориентированы только на те идеальные сферы нашей жизни, которые в высокой степени «покрыты» словами. Например, цветообозначения. Или термины родства.
А что было делать в той ситуации? Ситуации реальной. Ситуации, когда языковой материал отвергает неэффективные способы его постижения. Язык дает носителю языка средства для именования всех спортсменов. Пусть они не однословные, но они работают. И если реальность такова, и носители языка способны в этой – не однословной – реальности успешно решать свои задачи социального взаимодействия, то нужно искать научную концепцию, которая бы адекватно эту реальность отражала.
С этой ситуации началось мое превращение в функционалиста. В этой ситуации я впервые увидел субстанциональную ограниченность традиционного лингвистического знания. Знания сортировочного, но не моделирующего.
Да, это был серьезный научный вызов. Понимание того, что наши представления о том, как устроена лексика, и реальное устройство словаря естественного языка различаются так же, как в доброе старое время различались взгляды на то, вращается ли Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, было болезненным. Сейчас я сравнил бы соотношение наших традиционных представлений о «системных отношениях в лексике» (синонимы и антонимы), с одной стороны, и реальной картины, с другой, с тем, как если бы физиологи и врачи судили бы о деятельности организма живого существа по расположению пятнышек и волосков на его теле. Или, что еще нагляднее, если бы лекарственные таблетки классифицировались по цвету и размеру.
Слов – ничтожно мало. Ничтожно мало в сравнении с тем необозримым множеством реалий, которые нужно именовать… Даже если просто посмотреть вокруг – не в лесу, не в космосе – в квартире, то окажется, что нас окружают тысячи вещей, для которых нет однословных именований! Как назвать правый бок компьютерной мыши? А «донную» часть? А левый угол экрана ноутбука?
Оказывается, что та идеальная система опыта (по В.М. Солнцеву [Солнцев 1971]), которая скрывается от непосредственного наблюдения в «зазначье» (я это слово придумал и очень его люблю), на самом деле едва-едва прикрыта однословными номинациями, именами. Да мы и не запомним столько слов – у нас вообще в индивидуальной лексической системе их 30–40 тысяч в пассиве и всего 3-4 в активе. Так это еще в СССР и у советского интеллигента! А в нашу эпоху расплодившихся Эллочек Людоедок и Фим Собак!
Эта идеальная система огромна, многомерна, пронизана сложнейшей структурой. Количественно, я уверен, она на несколько порядков превышает самый большой словник.
Именно картина мира – так мы будем ее называть – обеспечивает понимание человека говорящего человеком слушающим. Именно картина мира, когда и если мы сможем ее моделировать, обеспечит взаимопонимание человека и искусственного интеллекта. Составные части «картины мира» – огромные понятийные подсистемы, отражающие в сознании человека соответствующие фрагменты мира.
Я увидел, что именно является единицей метасистемы человеческого опыта. Отнюдь не слово. Это семантема (я сознательно использовал термин моей матери профессора Жанны Соколовской [Соколовская 1999], наполнив его «функциональным» содержанием), представляющая собой сложное единство языкового понятия (это принципиально: языкового, т.е. не научного понятия; первое от второго отличается тем, что, не перечисляя все признаки реалии, содержит те из них, которые позволяют выделить реалию из числа подобных), с одной стороны; и знаковых средств выражения этого понятия, с другой.
Как описать эту метасистему? Звучит парадоксально, но с помощью того же компонентного анализа. Нужно только понять, что, во-первых, это не просто метод разложения значения слова на компоненты; во-вторых, верно использовать получаемые с его помощью данные. Использовать для того действие, которое я называю «компонентным синтезом».
Здесь же я хотел бы, чтобы читатель увидел вместе со мной за точечными вкраплениями однословных номинаций безграничное пространство языковых понятий. Языковых понятий, иерархически упорядоченных; в разной степени актуальных для современного языкового коллектива, но все они – достояние человечества. Все они – итог познавательной деятельности человека, постижения им универсума.
Все они требуют средств выражения!!! Не алфавитный порядок, не тождество формы или содержания, а именно метасистема иерархически упорядоченных языковых понятий организует множество слов и множество словосочетаний, истинный смысл бытия которых в системе языка заключается в том, чтобы быть средствами выражения соответствующих языковых понятий.
Значение отдельного слова может быть адекватно описано в рамках всей картины мира. Чтобы до конца понять значение одного слова нужно мало знать значения двух-трех смежных. Знать нужно, как минимум, семантическое устройство фрагмента лексикона, отражающего соответствующую подсистему универсума. Нужно знать точный «адрес», точные «координаты» интересующего нас языкового понятия в глобальной «картине мира». Как социум не совокупность лиц, как организм не множество клеток, так и то, что мы привычно называем термином «словарь» – не является простым множеством слов. «Словарь» – это сложная система семантем, система номинативных возможностей языка.
Потребность в описании этой системы очень велика. Но сделать это чрезвычайно непросто. Покажем это на примере слова «стул»…
Оказывается, задача намного сложнее, чем различение значений «стул» и «табуретка». Задача заключается в том, чтобы увидеть те семантические признаки, которые «закодированы» в значениях. Они априори понятны человеку, живущему человеческой жизнью в человеческом мире, но абсолютно непонятны искусственному интеллекту, для которого мы не в состоянии их раскодировать.
Оказывается, что значения слов-идентификаторов «предмет», «мебель», «сидеть», «сидение», которые используются в словарных толкованиях, содержат много сем, которые не заметны для непосредственного наблюдения. Но именно эти семы серьезно влияют на определение искомого значения…
Не следует думать, что фрагмент реальности, к которому принадлежит «стул», прост. Вот лишь несколько вопросов, на которые нет ответа, если мы ограничимся только компонентным анализом нескольких слов: что такое «пуф», «сидение», «кресло пилота», «автомобильное сидение», «стоматологическое кресло», «электрический стул»? А «седло»? А «кресло-качалка»? Слово, которое заставляет думать, что могут быть «стул-качалка», «пуф-качалка», «табурет-качалка». А «раскладной стул»? А «откидное сидение»? А «трон»? А «подставка»? Стул – подставка для нижней части туловища человека? А слова «лавка», «лавочка»? А «диван»? А «диван-кровать»? А «кресло-кровать»? Отличается ли «табуретка» от «скамейки» квадратностью сиденья?
А насколько осознан и вербализован в словарных толкованиях сам феномен сидения? В словарях находим: «сидеть» – «быть в таком положении, при котором туловище опирается на что-н. нижней своей частью» (ТСУ); «находиться, не передвигаясь, в таком положении, при котором туловище опирается на что-н. нижней своей частью, а ноги согнуты или вытянуты» (СО).
Оказывается, что сам феномен «сидения» неоднороден, разно функционален. И «сидение на стуле» – это далеко не всякое сидение.
«Сидение» в словаре Брокгауза и Ефрона (ЭС) предполагает экономию мускульных усилий, предполагает более высокую меру комфорта. Иначе говоря, стул есть средство оснащения комфорта.
Вернувшись к формулировкам значения «стул», с которых мы начинали, понимаешь, что слишком много в них имплицитного, антропоцентричного, заведомо понятного человеку и непонятного компьютеру. В них, на мой взгляд, нет принципиально важной идеи комфортности положения в пространстве. Стул и ему подобные приспособления предназначены для обеспечения комфорта сидения и других положений тела. Стул и кресло различаются мерой комфорта, а не техническим устройством. Слишком много в простом слове «сидеть», которое должно быть априори понятно человеку, подводных камней. Для человека и животного «сидеть» означает «не стоять», «не лежать». Для птицы – это «не лететь» (тогда птичий стул – это насест).
Оказывается, что сидеть человек может по-разному. Оказывается, что сидение – это особая «техника тела» взрослого человека. Классификация техник производна от различных моментов дня, по которым распределяются сон и бодрствование, а в бодрствовании – отдых и активность. «Способ сидения имеет фундаментальное значение. Человечество можно разделить на сидящее на корточках и сидящее на каком-нибудь приспособлении. Среди тех, кто пользуется сиденьями, можно различать народы со скамьями и без скамей и подставок, со стульями и без стульев. Деревянный стул, поддерживаемый фигурами на четвереньках, распространен, что весьма примечательно, во всех регионах пятнадцатого градуса северной широты и экватора на обоих континентах». А «сидение на корточках» – «когда человек сидит, не имея опоры под ягодицами, согнув колени и опираясь на стопы»? А сидение «по-турецки»…
И здесь возникает вопрос о том, насколько феномен использования стула для сидения связано с феноменом сидения за столом?
Оказывается, что предметы для сидения могут иметь иное, отличное от стула, устройство. Вот, например, японский «дзабутон» – плоская подушка для сидения толщиной в несколько сантиметров квадратной формы размером 50–70 см (иногда со спинкой)! И сидят на дзабутоне особым образом: или в позе сэйдза – сидя на пятках и выпрямив корпус, или в позе агура – скрестив перед собой ноги.
Отметим, что в словарных толкованиях «стул» не выражен эксплицитно такой важный признак, как предназначенность для сидения, изготовленность для сидения. Этот признак отличает стул его от «подручных средств» для сидения (пней, бревен, перил, ящиков…).
Слишком много скрытых смыслов, не выразив которые эксплицитно, мы не сможем научить машину понимать нас. Причем, как видим, основные трудности таятся именно на высших стратах иерархии сем!
Оспорить все сказанное выше нужно и можно. Только природа знаний, порождаемых лингвистикой, от этого не изменится. Нельзя сказать, что эти знания не соответствуют реальности. Нет, дело не в этом.
На мой взгляд, для того, чтобы понимать сущность сложившийся ситуации, нужно различать две принципиально различающиеся вещи: высказывание о реалии и ее определение.
Высказываний о реалии может бесконечно много. И все они могут отражать действительно существующие свойства и качества. Например, «в слове «стул» есть звук «у». Это высказывание позволит включить слово «стул» в множество слов с буквой «у». Или, скажем, слово «стул» состоит из четырех букв. Полезная информация для составителей кроссвордов, но не более того.
Определение отличается от высказывания тем, что отражает сущность реалии. Ее главное качество. То качество, которое порождает само существование реалии в мире человека. Определение, по моему глубокому убеждению, задает правила обращения человека с реалией. Ни одна из словарных формулировок слова «стул» не способна быть его определением: слишком много важных свойств этого феномена остаются в этих формулировках в нераскодированном виде.
Причина такого положения вещей – не в несовершенстве толковых словарей. Подлинная причина заключается в том, что в традиционной и родной всем нам лингвистике господствует парадигма, которую я называю субстанциональной, то есть ставящей во главу угла «природные», субстанциональные свойства языковых единиц [Рудяков 2004].
В рамках этой парадигмы накоплено огромное количество знаний о языковых единицах. Проблема только в том, что мир человека функционален, и сущность реалий в человеческом мире всегда функциональна. Ответ на вопрос «что это такое?» всегда предполагает ответ на вопрос «для чего это предназначено?».
Сегодняшнее положение вещей можно описать с помощью фантастической, но от того не менее наглядной аналогии.
Поколению жителей нашей планеты, играющих в такие компьютерные игры, как Fallout, Metro 2033 и другие подобные, будет несложно представить себе фантастическую ситуацию, в которой – после глобального катаклизма – люди утратили знания о лекарствах. Исчезли книги, справочники, каталоги, инструкции. Исчезли даже упаковки… Осталось только великое множество таблеток, капсул, ампул. И все они – без названий, без химических формул. И все они – непонятно для чего нужны.
Что будет делать человек, которому придется изучать это безграничное множество реалий. Он начнет искать сходства, подобия, различия. Сходства по цвету. Сходства по диаметру. Подобия формы. Различия в цвете жидкости внутри ампул. Совпадения или различия цвета порошка внутри капсулы и самой капсулы. Стойкость материала капсулы. Истираемость капсулы. Прочность ампулы. Вкус. Ломкость таблетки… Он напишет об этом книги. И тогда другие люди будут ссылаться на эти книги и упоминать их в своих текстах. Мы будем писать огромные каталоги, в которых все таблетки, ампулы и капсулы будут упорядочены по цвету, размеру, толщине, диаметру. Каждую таблетку, ампулу, капсулу можно будет в этих каталогах найти. Найти и прочитать ее описание: цвет, размер, форму… Наверное, там будет и указание на возможное использование: как украшение, как детская игрушка, как объект коллекционирования…
Художники начнут использовать таблетки, ампулы и капсулы для создания художественных произведений: картин, скульптур, инсталляций… Критики начнут писать о том, что таблетки определенного свойства лучше использовать для этого жанра, чем другие. Школьные методисты укажут на недопустимость применения ампул для создания игрушек для дошколят… Финансисты предложат использовать некоторые из разновидностей таблеток в качестве денег… Модный автор напишет книгу о ярко алой капсуле с горьким белым порошком внутри как символе несчастной любви…
Поразительно, но вся эта с каждым витком умножающаяся информация о таблетках, ампулах, капсулах будет верной. Будет правильной. Она будет отражать действительно существующие качества объектов изучения.
Трудно отрицать, что вот эта таблетка белая, круглая, плоская, горькая. Что на верхней ее плоскости есть буква или цифра. Что если наполнить этими таблетками банку, то получится чудесная погремушка для ребенка. Или игрушка для котенка… Что благодаря выемке посредине таблетка легко разделяется на две равные части… Таблетка, поставленная на ребро, хорошо катится. А благодаря дискообразной форме легко скользит по гладкой поверхности. Большими белыми таблетками, если их раскрасить в разные цвета, можно играть в шашки, го, реверси, «чапаева». Об этом, кстати, писали еще в 2050 году сторонники ампульного нигилизма…
Невероятная история?! Да нет, вполне вероятная. И имеющая вполне реальные аналогии в нашей жизни. Все сказанное о таблетках, капсулах и ампулах выше, несомненно, верно. Все знания о цвете, форме, размере таблетки соответствуют действительности и верно отражают их качества. Почему же все эти знания не имеют ценности? Вернее, почему эти знания имеют ограниченную социальную ценность?
Ответ прост. Прост и одновременно чрезвычайно сложен. Все высказывания о таблетках, ампулах и капсулах не отражают их сущности и не являются их определениями…
Все аналогии «хромают», и наша – тоже. Тем не менее, слово «стул» не предназначено для того, чтобы быть объектом этимологического, грамматического и прочих описаний. Смысл бытия слова «стул» в системе русского языка заключается в том, чтобы быть номинативной единицей, т.е. знаковым выразителем определенного языкового понятия в определенных позициях номинации. Определение слова «стул» должно содержать, во-первых, точное, строгое, непротиворечивое описание языкового понятия ‘предмет для…’; во-вторых, перечень тех позиций номинации, в которых оно может быть использовано для именования соответствующих (т.е. заданных перечнем сем, формирующих языковое понятие) реалий.
Именно это знание и нужно «внешним» потребителям языковедческого знания. Обретение такого – функционального – знания позволит на новой основе организовать ту информацию, которую сегодня накопила лингвистика.
Сегодня же в социуме сохраняется весьма снисходительное отношение к тому, что лингвисты уже знают и знают наверняка. Для меня в этом отношении весьма показательна судьба фонемы [j] в школьных учебниках. В школе вообще достаточно легко относятся к изложению лингвистической теории. Но случай с «й» – вопиющий. Как правило, в школьных учебниках звук «й» определяется как мягкий. С моей точки зрения, это сравнимо с тем, например, если бы школьный химик называл хлор металлом, а натрий – газом.
Типичный учительский аргумент гласит, что различие между палатальными и мягкими фонемами не имеет практического значения для правописания. Нет!!! Имеет!!!
Если не знать, что «й» палатальный, то нельзя адекватно объяснить правописание разделительного твердого знака. Почему «подъезд», но «дело»?
Итак, «остановившись и оглянувшись», мы обнаруживаем, что порождаемое лингвистикой знание не выдерживает главного испытания для всякого научного знания – испытания практикой. Оно предназначено для «внутреннего потребления» и не может удовлетворить реальные потребности других наук. В этом – главная причина того, что лингвистика в общественном сознании занимает место, которое далеко не соответствует ее потенциальной значимости для человека и человечества. Мы – наука о «жи-ши», запятых и ударениях?
Что делать?
На мой взгляд, прежде всего, необходимо признать, что традиционная лингвистическая научная парадигма исчерпала свой эвристический потенциал. Субстанционализм, в моей терминологии ([Рудяков 2004]), как способ восприятия мира не «работает». Лингвистика должна обрести последовательно функциональное восприятие своего главного объекта. Без этого мы так и не перейдем от классификаций к действующим моделям, которых так ждут «внешние» потребители языковедческого знания.
Может показаться, что в этой статье больше вопросов, чем ответов… Это закономерно: подлинная наука представляет собой непрерывную череду вопросов. Окончательные ответы существуют только в мифологии.
Список сокращений
БТС – Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб., 2000.
СО – Ожегов С. И. Словарь русского языка: около 53 000 слов / Ред. и вступ. ст. Л.И. Скворцова. – М., 2007.
ТСУ – Толковый словарь русского языка: В 4 т / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1935–1940.
ЭС – Энциклопедия