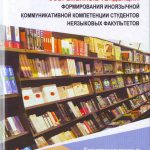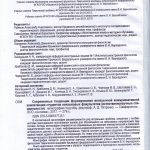«… Монографическое исследование «Современные тенденции формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых факультетов (естественнонаучные специальности)» носит теоретико-методологический и прикладной характер, представляя собой своеобразный сплав вопросов теории формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых специальностей и практических наработок опытных преподавателей кафедр иностранных языков, чем и определяются научная новизна и актуальность монографии».
А.Н. Рудяков,
доктор филологических наук,
профессор