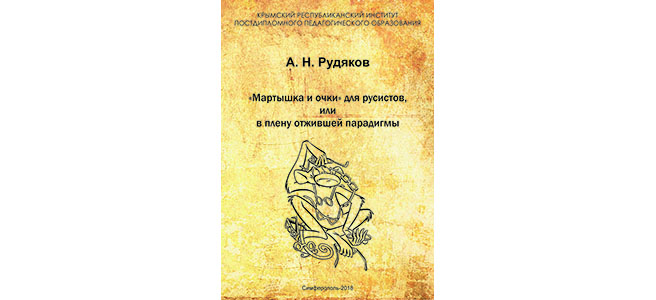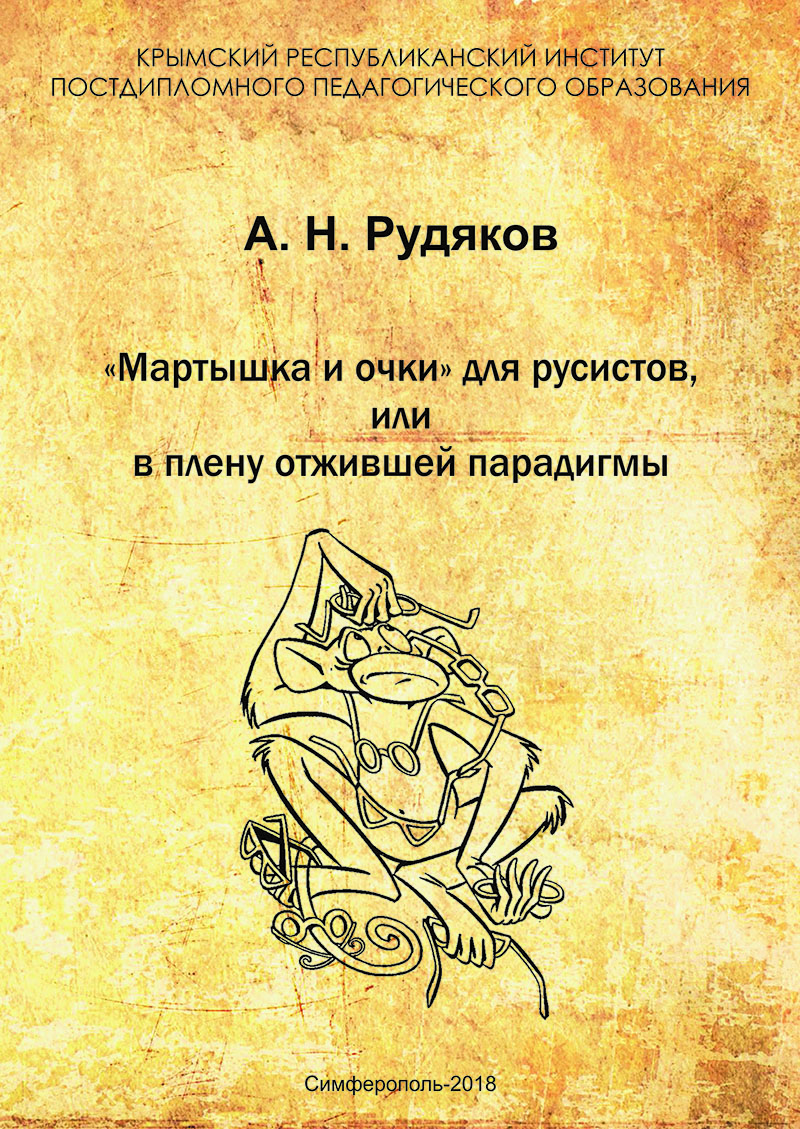
Когда компьютер начинает «тормозить», его немедленно меняют на более современный и более производительный.
Когда устаревает научная парадигма, определяющая то, каким образом та или иная наука воспринимает свой объект, она надолго становится «камнем на шее» этой науки, камнем, который долгие годы тормозит ее развитие…
В последнее время стала активно обсуждаться проблема функциональной неграмотности. Об этом, в частности, не так давно говорила О.Ю. Васильева по поводу функционального чтения: «Мы сегодня отстаем по сравнению с данными десятилетней давности. По разным данным, от 22 до 25% населения страны не владеют функциональным чтением»[1].
Произведения русской классической литературы вновь и вновь подтверждают, что свою актуальность они не потеряют никогда. И вот несколько дней назад, прочитав о том, что многие наши школьники не обладают способностью к функциональному чтению, я стал по этому поводу беседовать со своими сотрудниками. Поиск аналогий и аргументов вдруг привел к тому, что в памяти возникли строки басни И.А. Крылова «Мартышка и Очки»[2]:

Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
«Тьфу пропасть! — говорит она, — и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:
Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на-волос нет в них».
Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали…
***
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.
Как видим, проблема функциональной неграмотности – это одна из вечных проблем. Что, кстати, нас не извиняет. Важно понимать, что есть много сфер, в которых каждый из нас функционально безграмотен. Посади меня за штурвал самолета, например, и все. Дело не в этом. Дело в способности эту неграмотность преодолевать.
Басня прекрасно иллюстрирует суть проблемы. Животное взаимодействует с очками всеми мыслимыми способами. Кроме одного. Соответствующего сути этого оптического устройства! Она не использует их для корректировки зрения, то есть для того, для чего очки существуют в мире человека.
Басня Крылова ведь совсем не о том, как мартышка обращается с очками! Беда героини в том, что она не понимает сущности той вещи, которую пытается использовать. Это и есть функциональная неграмотность: неумение понять суть вещи, явления, процесса, слова, текста, закона…
Но мартышка вполне могла бы создать научное описание очков. В это описание могли бы войти такие данные, как количество пар очков, которое можно разместить на хвосте. Или с какой силой можно прижимать очки к темени. Или правила нюханья очков… И так далее.
При этом все таким образом собранные сведения были бы истинны. Правда, они не имели бы ничего общего с сутью очков как оптического прибора для корректировки зрения…
Но такое несоответствие встречается часто…
Не так давно я для одной из работ написал фрагмент, который назвал «Этюд о таблетках, капсулах и ампулах»[3]. Думаю, он уместен и в этом контексте. «Этюд» фантастичен, но от него я перейду к грустной реальности в русистике…
Давайте представим себе фантастическую ситуацию, в которой человечество вдруг утратило описания лекарств. Исчезли книги, справочники, каталоги, инструкции. Исчезли даже красивые коробочки с названиями… Осталось только великое множество таблеток, капсул, ампул.

И все они – без названий, без описаний, без инструкций. И познание всего этого безграничного множества начинается с самого начала. Ab ovo, как говорили древние.
Что станут делать люди, столкнувшись с необходимостью познать это бесконечно огромное месиво ампул, капсул, таблеток и порошков?
Они начнут с поиска внешних сходств, подобий, различий. Сходства по цвету. Сходства по диаметру. Подобия формы. Различия в цвете жидкости внутри ампул. Совпадения или различия цвета порошка внутри капсулы и самой капсулы. Стойкости материала капсулы. Истираемости капсулы. Прочности ампулы. Вкуса таблетки. Ломкости таблетки…
Люди напишут об этих свойствах таблеток, ампул и капсул короткие и длинные тексты – статьи и книги. И вскоре другие люди будут ссылаться на эти книги и упоминать их в своих текстах. Начнут создаваться огромные каталоги, в которых все таблетки будут упорядочены по цвету, размеру, толщине, диаметру. Каждую таблетку, ампулу, капсулу можно будет в этих каталогах найти. Найти и прочитать ее описание: цвет, размер, форма…
Наверное, там будет и указание на возможное функционирование: например, «может быть использовано как украшение, как детская игрушка, как объект коллекционирования…».
Художники начнут использовать таблетки, ампулы и капсулы для создания художественных произведений: картин, скульптур, инсталляций… Критики начнут писать о том, что таблетки определенного диаметра лучше комбинировать с другим именно для этого жанра. Школьные методисты укажут на недопустимость применения ампул для создания учебных пособий, предназначенных для начальной школы… Финансисты предложат использовать некоторые из разновидностей таблеток в качестве денег… Модный романист напишет книгу о ярко-алой капсуле с горьким белым порошком внутри как символе несчастной любви…
Поразительно, но вся эта с каждым витком умножающаяся информация о таблетках, ампулах, капсулах будет верной. Будет правильной. Она будет отражать действительно существующие качества объектов изучения. Трудно отрицать, что вот эта таблетка белая, круглая, плоская, горькая. Что на верхней ее плоскости есть буква или цифра. Что если наполнить этими таблетками банку, то получится чудесная погремушка для ребенка. Или игрушка для котенка… Что благодаря выемке посредине таблетка легко разделяется на две равные части… Таблетка, поставленная на ребро, хорошо катится. А благодаря дискообразной форме легко скользит по гладкой поверхности. Большими белыми таблетками, если их раскрасить в разные цвета, можно играть в шашки, го, реверси, «чапаева». Об этом, кстати, писали еще в 2050 году сторонники ампульного нигилизма…
На каком-то этапе возникнет необходимость осознать, когда и как возникло это великое множество таблеток, ампул, капсул. И мы будем спорить о том, были ли таблетки, ампулы и капсулы у первобытного человека. Сколько их было и какого цвета. Мы отыщем прообразы таблеток, ампул и капсул у человекообразных обезьян и скажем, что наши таблетки, ампулы и капсулы вполне могли быть продуктом простой эволюции… Возникнут разные теории происхождения таблеток, капсул, ампул. Божественная: дескать, дарованы высшей силой. Космическая: привнесены на Землю извне…
Впоследствии кто-то предложит дополнить классификацию капсул по цвету и размеру классификацией содержимого капсул. Возникнет долгая дискуссия о том, что первично для понимания сущности и природы капсул: ее форма или ее содержание. Возникнут две школы: оболочкисты и содержанцы.
Следом будет обнаружено, что в разных регионах Земли существуют очевидные различия в наборе ампул, капсул и таблеток. Возникнет такое научное направление как ампулогеография. Будет сделан вывод о том, что набор ампул, капсул и таблеток является чертой национального характера, восходящей к особенностям культуры и наскальной живописи…
Будет категорически запрещено принимать таблетки, ампулы, капсулы внутрь. Ученый-капсулист, утверждавший, что прием внутрь черно-белых капсул с синим порошком помог ему излечить пациента от гриппа, будет уволен за лженаучные измышления. Между тем, число научных работ о таблетках, капсулах, ампулах достигнет десятков тысяч. Основные достижения таблеткознания, ампуловедения и капсулистики будут включены в программу для начальной школы.
Но тут обнаружится одна странность: дети в школах плохо усваивают классификации таблеток по диаметру и цвету. Как ни изощрялись педагоги и особенно методисты, итоги были плачевные.
Фантастическая история?! Конечно. Но ведь имеющая вполне реальные аналогии в нашей жизни.
Парадоксально, но все, сказанное о таблетках, ампулах и капсулах выше, несомненно, соответствует реальности. Все знания о цвете, форме, размере таблетки отражают ее – таблетки – качества. Почему же все эти знания не имеют ценности? Вернее, почему эти знания имеют ограниченную социальную ценность?
Ответ прост. Прост и одновременно чрезвычайно сложен.
Эти знания не имеют ничего общего с сущностью таблеток, ампул и капсул. Их сущность (то есть то главное, основное, порождающее само их появление в мире человека качество), как и сущность всего существующего в мире человека, заключается в их функции! Функция таблеток, ампул и капсул быть лекарством.
Человек делает таблетку не для того, чтобы она была белой, круглой, дискообразной, горькой, с выемкой посредине.
Человек вообще делает не таблетку, а лекарство в виде таблетки. Таблетка, капсула, ампула – это «техника» лекарства. И техника эта может быть очень разной. И она была разной на протяжении всей истории человечества. «Таблеточность», «ампульность», «капсульность» лекарств на разных этапах нашей истории были далекой перспективой. Но было нечто иное.
Когда-то давным-давно люди заметили, что ивовая кора помогает при лихорадке. Лечебные свойства коры объясняются наличием в ней солей салициловой кислоты. В 1897 году в лаборатории химического концерна «Байер» молодой немецкий химик Феликс Хоффман синтезировал ацетилсалициловую кислоту в химически чистой и устойчивой форме. Хоффман пытался найти действенное средство против болей в суставах, которыми страдал его отец.
Увидит ли человек в куске ивовой коры предтечу таблетки аспирина?
ДА или НЕТ? Ответ зависит от той познавательной парадигмы, в рамках которой этот человек воспринимает мир…
Если этот человек функционально воспринимает мир, то – «да». Если человек субстанционалист, то – «нет».
Функциональная грамотность – это способность понимать суть вещей, процессов, явлений. Функциональная неграмотность – это неспособность понимать суть вещей, процессов, явлений.
Принципиально важно, что причиной функциональной неграмотности может быть (и часто является!!!) неадекватная научная парадигма как та «призма», сквозь которую человек видит мир.
В той системе представлений, которую я моделировал в «этюде о таблетках», просто невозможна функциональная грамотность в сфере применения лекарств. Это – смысл предлагаемой статьи: функциональная грамотность в этой ситуации возникает не благодаря, а вопреки существующей системе представлений.
Мне кажется, что ситуация в современной нам русистике похожа на то, как мартышка обращается с очками. Очки используются, очки применяются, но не функционируют согласно своей сути. Ситуация в русистике похожа на ситуацию в «Этюде о таблетках».
Это может показаться серьезным преувеличением, но давайте посмотрим на факты. Невладение функциональным чтением есть следствие нефункционального понимания феномена языка в русистике.
Если мы действительно нуждаемся в функциональной грамотности, мы должны как можно быстрее прийти к последовательной и принципиальной функционализации нашего понимания естественного языка и, прежде всего, функционального понимания текста.
Почему прежде всего текста?
Да потому, что функциональное чтение не сформируется в тех условиях, когда мы учим текст «на хвост нанизывать»…
Забавно, но, говоря о функциональной грамотности и о смысловом чтении почти всегда забывают, что в термине «смысловое чтение» не хватает еще одного важного – третьего – слова. Слова «текст». Именно оно объясняет, что мы читаем и смысл чего мы должны извлекать.
Как только мы вспомним, что смысловое чтение есть постижение текста, мы сразу сообразим, что тексты бывают не только письменные, но и устные. И они тоже нуждаются в понимании, потому что, по сути своей, то, что мы именуем новым термином «смысловое чтение», есть понимание.
Итак, смысловое чтение – частный случай. Оказывается, есть еще «смысловое слушание», о котором почему-то никто не говорит. А есть «смысловое понимание» сути вещей, явлений, процессов.
Поэтому говорить о функциональной грамотности только применительно к чтению текста по меньшей мере странно. Функциональная грамотность = «смысловое понимание» – в широком понимании – это умение эффективно взаимодействовать со «средой».
Но правила этого взаимодействия человек открывает, как правило, не самостоятельно, не на собственном опыте. Обычно эти правила мы извлекаем из текстов. Вот почему смысловое чтение так важно…
Что же происходит с текстом в школе?
Приходит ребенок в начальную школу. Tabula rasa в полном смысле этого выражения. Впитывающий каждое слово учителя. Еще не утративший страсти к учебе, которую мы убиваем старательно и последовательно, предлагая нашим детям учебники о «нюхании очков».
И что ребенку там предлагают делать с текстом? Вы удивитесь, читатель, но нашим детям во втором классе предлагают искать «крышу текста»!!! Считать предложения!
У школьника возникает стойкое убеждение, что текст – это не то, чем он пользуется каждый день, каждую минуту, а нечто для переписывания, для извлечения примеров, для заполнения.
Оказывается, что текст состоит из абзацев! А устный текст – тоже из абзацев?
Тренировка понимания, а именно оно – суть смыслового чтения, овладение которым и есть функциональная грамотность, далеко не на первом месте.
Например, «умение извлекать из текста «ключевую информацию»(??!!). Что такое «ключевая информация» при этом не объясняется, видимо, это должно быть заведомо понятно.
При этом давным-давно существуют термины «тема» и «идея» текста. Тема – это то, о чем повествуется, идея – то, для чего субъект говорения это делает.
Функциональное чтение – это чтение-понимание. Это способность понять смысл текста, умение увидеть, что пытается втолковать мне автор, рассказывая о какой-то теме.
И в этом отношении тренировка умения понимать смысл текста является тренировкой и умения понимания смысла всего нас окружающего и происходящего.
Беда в том, что невозможно научить функционально читать текст в ситуации, когда текст понимается и преподается в школе (и не только) как совокупность абзацев. Мысль о том, что объект «смыслового слушания» – устный текст невозможно разбить, расчленить, искромсать на абзацы, не приходит в голову авторам таких определений. Считать, что текст состоит из абзацев, могут только те, кто думает, что человеческий организм состоит из груди, боков и спины.
Наша жизнь устроена просто: если я знаю определение вещи – я умею с ней обращаться. Я много раз писал: определение кодирует правила обращения с вещью.
Ребенок использует тексты каждый день, каждую минуту. Когда говорит маме «доброе утро», когда просит налить ему чай. Текст не для разбора, не для анализа…
Сравнить могу только с дичайшей ситуацией, когда человек, приходя на стоянку или в гараж, не едет на машине, а начинает ее разбирать.
В погоне за орфографической грамотностью, которая невозможна без понимания того, что такое язык, мы теряем грамотность функциональную.
Не функционально понимается в школе не только текст. И сам язык, и все его единицы – изучаются вопреки их функциональной сущности.
Возьмем самый «простой» пример – слово. Что делают со словом в школе. Слово – пишут. Слово – разбирают. Слово – проверяют «проверочными словами». И здесь я снова скажу: «то их понюхает, то их на хвост нанижет»… Почему? Да потому что слово существует в языке не для этих манипуляций.
Слово – единица, номинативная, именующая.
Изучать слово стоит с точки зрения того, что, когда, в какой ситуации, для какого адресата этим словом можно именовать!!! Более того, нужно объяснить ребенку, что далеко не для всего в мире существующего есть однословные именования. В мире существует огромное число вещей, явлений, событий, процессов, требующих неоднословных именований.
Иначе говоря, эти вещи мы именуем с помощью словосочетаний. И нужно обучать детей правилам и тонкостям использования этих функционально тождественных единиц. Их выбору, их взаимозаменяемости, их применимости к той или иной речевой ситуации…
Но нет!!! Словосочетание изучается в абсолютно ином разделе русистики – в синтаксисе. Вместе с предложением! Почему? Ведь предложение и словосочетание функционально абсолютно разные единицы?
А потому, что и то, и другое – это сочетание слов!!! Это точно, как классифицировать таблетки по диаметру, а очки по цвету оправы.
Но ведь для того, чтобы быть предложением, совсем не обязательно быть сочетанием слов!!! Уверен, что число «однословных» предложений в устной речи не намного меньше предложений «многословных»…
Такими откровенными пережитками, унаследованными от старой научной парадигмы, мир русистики заполнен до отказа. Нужно откровенно признать, что, продолжая преподавать такие знания, мы получим функционально грамотных людей только вопреки нашему преподаванию.
В уже упомянутой статье я приводил в качестве примера тот факт, что мы сегодня не в состоянии дать определение отдельного слова. Определения, которое бы удовлетворило внешних потребителей лингвистических знаний. Проблема ведь в чем. Если лингвисты находятся внутри своего уютного мирка, где все как-то объяснено и освящено мнением авторитетов, то все вроде бы в порядке.
Но как только нам зададут прямые вопросы, скажем, информатики, которым нужно предельно точно дифференцировать значение одного слова от другого, чтобы задать его машине (для перевода, для интеллекта), сказать нам просто нечего.
Что мы знаем? Синонимы, антонимы, омонимы и паронимы, кочующие из одной учебной программы в другую.
«Простой» пример – давайте определим смысл «простого» слова «стул» так, чтобы его могли использовать создатели машинного перевода и искусственного интеллекта.
Какое именно знание мы сможем отыскать в нашем обширном, ведущем свое начало из Древней Индии арсенале знаний? Что действительно лингвисты знают о слове «стул»? Что сможет полезного лингвист рассказать о нем информатику? «Рассказать» – значит дать знания об этом слове, которое «информатик» (здесь я должен повиниться перед специалистами самых разных областей знания, которых по своей филологической приблизительности именую «информатиками») сможет использовать для создания базы данных, столь нужной для развития многих областей. Каких именно? Искусственного интеллекта, машинного перевода, робототехники и многих других, требующих построения организованных каталогов знаний о мире.
Я думаю, что первым делом наш брат лингвист расскажет о грамматических свойствах единицы «стул». К сожалению, это не уникальная характеристика. Этимология тоже будет некстати.
Что дальше?
А дальше, по сути дела, – ничего. Процитирует, что писали об этом слове И.И. Иванов, П.П. Петров или, что особенно важно для русистов, Джон Джонович Джонов. А если они о слове «стул» ничего не писали? Если столь любимая нами форма доказательства, как ссылка на авторитет, не сработает?
Тогда лингвист сможет указать, что у этого слова нет синонимов, антонимов, но есть то ли омоним, то ли второе значение (речь об еще одном слове с такой же формой и с ограниченной сферой употребления: вспомним повесть Бориса Полевого «Доктор Вера» («Каков стол, таков и стул»)[4].
Укажет, что «стул» входит в тематическую группу со значением «мебель», но не сможет дать исчерпывающий список этой группы… Поищет работы о соответствующем «концепте», но вряд ли найдет, потому что слово «стул» из нашей обыденности, из нашей повседневности, а концептологи и лингвокультурологи интересуются вещами высокими и патетическими.
Можно еще сказать, что в словарях слово «стул» располагается между словами «стукотня» и «стульчак». Но нужно сразу признаться, что в толковом словаре слова расположены по случайному – алфавитному – принципу, и эта информация адресату никакой пользы не принесет. Как не принесло бы пользы, если бы в учебниках истории великих людей характеризовали по росту и весу, а не ценности содеянного.
В сказанном нет преувеличений: именно так представляет свой объект изучения традиционная лексикология: словарь языка видится как слабо организованное множество слов, в котором удалось за много веков выделить слова тождественные или подобные по значению (синонимы) или форме (омонимы), с одной стороны, и не подобные, с другой (как здесь не вспомнить «Этюд о таблетках»)
Для меня очевидно, что утверждение о том, что «слово А есть синоним слова В», с точки зрения семантического анализа есть начало, а не итог разговора о конкретном слове. Когда-то я посвятил довольно много времени доказательству несиномичности синонимов. Нет слов, которые были бы тождественны по значению, за исключением таких, как, например, «языкознание» и «лингвистика».
Пора честно признать, что лингвистам нечего сказать о слове «стул». А ведь при этом декларируется, что слово – главная единица языка. И лексику мы воспринимаем именно как множество слов. И ничего кроме слова в системе видеть не хотим.
Нужно ли такого рода знание кому-нибудь, кроме самого лингвиста? Может быть, учителю? Или, не дай бог, айтишнику?
«Вы лукавите, – скажут мне лингвисты, – мы знаем значение слова стул. Оно закреплено в толковых словарях».
Как говаривал герой одного из телесериалов: «А я был готов к этому ответу».
Значение слова «стул», а именно оно, прежде всего, будет интересовать потребителей нашего скудного лингвистического знания, в словарях определяется так:
– ‘предмет мебели – сиденье на ножках со спинкой, на одного человека’ (СО);
– ‘род мебели: предмет на четырех ножках, без подлокотников, обычно со спинкой, предназначенный для сидения одного человека’ (БТС);
– ‘род мебели для сидения, снабженный спинкой (для одного человека)’ (ТСУ); – ‘мебель для одиночного сидения’;
– или как в сказке С. Маршака «Кошкин дом»[5]: «это стул – на нем сидят»…
Там же мы найдем устойчивые словосочетания и несколько идиом.
Можно ли формализовать эти словарные толкования? Нет, нельзя. В них остались не выявленными многие важные признаки значения этого слова. Эти толкования не могут быть признаны определением слова «стул», потому что, по моему глубокому убеждению, всякое определение есть характеристика сущности объекта, содержащее правила обращения с ним…
О выявлении различных признаков значения слова «стул» писал Л.В. Сахарный в книге «Как устроен наш язык»[6]. Так, по его словам, если мы скажем, что «стул – это предмет, на котором сидят», то мы не сможем дифференцировать значения слов «стул» и «табуретка» – ‘род скамейки с квадратным или круглым сиденьем без спинки, употр. вместо стула’ (ТСУ).
Чтобы не быть табуреткой, стул должен быть со спинкой. Это – ‘со спинкой’ – отличительный (дифференциальный) признак языкового понятия ‘стул’. Однако, если мы ограничимся определением ‘это предмет, на котором сидят, со спинкой’, то это может быть не «стул», а «кресло»… Нужен еще один отличительный признак, чтобы разграничить значение ‘стул’ от значения ‘кресло’. И это – ‘без подлокотников’ и ‘с подлокотниками’… Но и это еще не все: если мы остановимся на ‘предмет, на котором сидят со спинкой и без подлокотников’, то мы рискуем перепутать «стул» и «скамейку»… Поэтому нужен еще один признак, а именно – ‘для одного человека’…
По сути дела, Л. В. Сахарный описал простейший случай использования метода компонентного анализа значения слова, в ходе которого исследуемое значение последовательно сопоставляется со смежными значениями. Метод компонентного анализа позволяет, как тогда считали, разложить значение слова на по-разному именуемые компоненты или элементы значения (семы). Такой подход к исследованию значений слов не может не получить позитивной оценки. Он позволяет значительно точнее характеризовать значения, но… он чрезвычайно трудоемкий и «умоемкий», если браться за него по-настоящему. Именно поэтому лингвистика отшатнулась от этой непосильной для нее задачи и ушла в любование концептами. Кстати, интересно было бы послушать адептов этого направления о бытии-небытии концепта «стул». Наверняка там было бы упоминание и о двух стульях, на которых нельзя сидеть, и о 12 стульях, и о чем-то еще, что сразу не вспомнишь и что в высшей степени малополезно для решения тех задач, о которых я говорю.
Я однозначно «за» компонентный анализ. Им занималась моя мать, им занимался я, это очень продуктивный метод, хотя – повторю еще раз – требующий чрезвычайных усилий для понимания того, что именно скрывается «за знаком». «В зазначье», как я для себя именую эту область. И еще одно: человек, потративший множество сил, таланта, времени на компонентный анализ и описавший значения слов, сталкивается с тем, что итог его усилий настолько же очевиден в конце, насколько неясен в начале (итоговая очевидность первоначально неочевидного).
Великолепный метод. Незаслуженно забытый и чрезвычайно действенный, если правильно использовать его результаты…
Что я имею в виду?
В рассуждениях Л. В. Сахарного, посвященных слову «стул», есть один очень характерный для традиционной лингвистики тезис, а именно: нет необходимости выделять отличительный признак ‘деревянный’, потому что нет слова, которое обозначало бы «не деревянный стул»…
Иначе говоря, тот или иной компонент значения может быть выделен только в том случае, если он дифференцирует значения разных слов!!! Это было бы верно, если бы составные части значений на самом деле были элементарными составляющими значений слов.
Здесь возникает, по крайней мере, три принципиальных вопроса:
- Почему речь идет только о значениях слов? Разве только слова имеют значения? Разве только слова человек использует для именования реалий? А как же множество словосочетаний, которые мы используем всякий раз, когда нам не хватает слов? И вообще, «за словом ли лезет в карман говорящий»?!
- Так ли «прочно» существование семантического признака – семы – привязано к способу его выделения? Очевидно, что нет.
- В масштабах какой по размеру лексической подсистемы можно адекватно описать значение отдельного слова? Ведь смысл многих компонентов словарного толкования «стул» оставался неопределенными. Что такое «предмет»? Что такое «мебель»? Что такое «сидеть»? Их толкования в словарях еще менее определенны, чем слова «стул».
Я не случайно обращаю внимание читателя на это показательное утверждение Л. В. Сахарного. Оно мне кажется краеугольным и поворотным для того, чтобы показать разницу в том, как видит словарь традиционная лингвистика, а как – функциональная. Именно с этой познавательной «развилки» начинается путь к получению того знания, которое нужно от нас информатике!!! И первый шаг – преодоление «словоцентризма» и субстанционализма восприятия глобальной системы словаря естественного языка.
Я очень хорошо это понимаю, потому что раньше я видел мир так же, как Л. В. Сахарный и многие другие лингвисты, воспринимающие свой объект в рамках традиционной субстанциональной научной парадигмы… Я анализировал большие группы слов и искренне считал, что именно так и должны происходить семантические исследования словаря языка. Если бы мы тогда смогли построить классификацию слов на семантических основаниях, это был бы огромный шаг вперед по сравнению с классификацией по алфавитному, формальному, порядку, принятому в наших словарях.
Но все же это была бы именно классификация слов, а не действующая модель номинативной системы языка.
Я расскажу, как мне удалось преодолеть словоцентризм и увидеть мир функционально. Я начинал свою вузовскую деятельность преподавателем РКИ. Мне предложили стать руководителем кандидатской диссертации аспиранта из Польши. Согласившись, я начал искать группу слов, которые мы подвергнем компонентному анализу. Схема диссертации была очевидна: выборка группы из словаря, компонентный анализ, компонентный синтез. Но жизнь подарила мне серьезное испытание, потому что аспирант из Польши Збигнев Буляж преподавал русский язык в институте физической культуры. И по требованию руководства института материалом его диссертации должна была стать только «спортивная лексика»…
С одной стороны, это было благом для меня как руководителя, потому что выбор лексической группы для компонентного анализа – это особой сложности задача, с другой стороны, когда Збигнев принес результаты первой выборки фактического материала, то оказалось, что в огромной группе названий лиц по спортивной специализации… практически не было слов!!!
Подавляющее большинство понятий этой сферы выражалось словосочетаниями… Там были «бегун», «прыгун», но не было однословных номинаций для множества реально существующих специализаций: «прыгун в высоту», «бегун на средние дистанции» и прочее, и прочее, и прочее… Помню, что радовался как ребенок слову «миттельштреккер» (‘бегун на средние дистанции’).
Тогда, в конце 20 века, никто даже не задумывался о компонентном анализе значения словосочетаний. Парадоксально, но факт: словосочетание как одна из важнейших наряду со словом единиц именующих исследовалась и исследуется в лингвистике исключительно как синтаксическая единица… И это тогда, когда подавляющее большинство номинаций в нашей жизни сделано именно с помощью словосочетаний.
Я понял, что старые концепции и теории «работают» далеко не для всех подсистем словаря. Они ориентированы только на те идеальные сферы нашей жизни, которые в высокой степени «покрыты» словами. Например, цветообозначения или термины родства.
А что было делать в той ситуации? Ситуации реальной. Ситуации, когда языковой материал отвергает неэффективные способы его постижения. Язык дает носителю языка средства для именования всех спортсменов. Пусть они не однословные, но они работают. И если реальность такова, и носители языка способны в этой – не однословной – реальности успешно решать свои задачи социального взаимодействия, то нужно искать научную концепцию, которая бы адекватно эту реальность отражала.
С этой ситуации началось мое превращение в функционалиста. В этой ситуации я впервые увидел субстанциональную ограниченность традиционного лингвистического знания. Знания сортировочного, но не моделирующего.
Да, это был серьезный научный вызов. Понимание того, что наши представления о том, как устроена лексика, и реальное устройство словаря естественного языка различаются так же, как в доброе старое время различались взгляды на то, вращается ли Солнце вокруг Земли или Земля вокруг Солнца, было болезненным. Сейчас я сравнил бы соотношение наших традиционных представлений о «системных отношениях в лексике» (синонимы и антонимы), с одной стороны, и реальной картины, с другой, с тем, как если бы физиологи и врачи судили бы о деятельности организма живого существа по расположению пятнышек и волосков на его теле. Или, что еще нагляднее, если бы лекарственные таблетки классифицировались по цвету и размеру.
Слов ничтожно мало. Ничтожно мало в сравнении с тем необозримым множеством реалий, которые нужно именовать… Даже если просто посмотреть вокруг – не в лесу, не в космосе – в квартире, то окажется, что нас окружают тысячи вещей, для которых нет однословных именований! Как назвать правый бок компьютерной мыши? А «донную» часть? А левый угол экрана ноутбука?
Оказывается, что та идеальная система опыта (по В. М. Солнцеву[7]), которая скрывается от непосредственного наблюдения в «зазначье» (я это слово придумал и очень его люблю), на самом деле едва-едва прикрыта однословными номинациями, именами. Да мы и не запомним столько слов – у нас вообще в индивидуальной лексической системе их 30–40 тысяч в пассиве и всего 3–4 тысячи в активе. Так это еще в СССР и у советского интеллигента! А в нашу эпоху расплодившихся Эллочек Людоедок и Фим Собак!
Эта идеальная система огромна, многомерна и пронизана сложнейшей структурой. Количественно, я уверен, она на несколько порядков превышает самый большой словник.
Именно картина мира – так мы будем ее называть – обеспечивает понимание человека говорящего человеком слушающим. Именно картина мира, когда и если мы сможем ее моделировать, обеспечит взаимопонимание человека и искусственного интеллекта. Составные части «картины мира» – огромные понятийные подсистемы, отражающие в сознании человека соответствующие фрагменты мира.
Я увидел, что именно является единицей метасистемы человеческого опыта. Отнюдь не слово. Это семантема (я сознательно использовал термин моей матери профессора Жанны Павловны Соколовской[8], наполнив его «функциональным» содержанием), представляющая собой сложное единство языкового понятия (это принципиально: языкового, т.е. не научного понятия; первое от второго отличается тем, что, не перечисляя все признаки реалии, содержит те из них, которые позволяют выделить реалию из числа подобных), с одной стороны; и знаковых средств выражения этого понятия, с другой.
Как описать эту метасистему? Звучит парадоксально, но с помощью того же компонентного анализа. Нужно только понять, что, во-первых, это не просто метод разложения значения слова на компоненты; во-вторых, верно использовать получаемые с его помощью данные. Использовать для того действие, которое я называю «компонентным синтезом».
Здесь же я хотел бы, чтобы читатель увидел вместе со мной за точечными вкраплениями однословных номинаций безграничное пространство языковых понятий. Языковых понятий, иерархически упорядоченных; в разной степени актуальных для современного языкового коллектива, но все они – достояние человечества. Все они – итог познавательной деятельности человека, постижения им универсума.
Все они требуют средств выражения!!! Не алфавитный порядок, не тождество формы или содержания, а именно метасистема иерархически упорядоченных языковых понятий организует множество слов и множество словосочетаний, истинный смысл бытия которых в системе языка заключается в том, чтобы быть средствами выражения соответствующих языковых понятий.
Значение отдельного слова может быть адекватно описано в рамках всей картины мира. Чтобы до конца понять значение одного слова нужно мало знать значения двух-трех смежных. Знать нужно, как минимум, семантическое устройство фрагмента лексикона, отражающего соответствующую подсистему универсума. Нужно знать точный «адрес», точные «координаты» интересующего нас языкового понятия в глобальной «картине мира». Как социум не совокупность лиц, как организм не множество клеток, так и то, что мы привычно называем термином «словарь» – не является простым множеством слов. «Словарь» – это сложная система семантем, система номинативных возможностей языка.
Потребность в описании этой системы очень велика. Но сделать это чрезвычайно непросто. Покажем это на примере слова «стул».
Оказывается, задача намного сложнее, чем различение значений «стул» и «табуретка». Задача заключается в том, чтобы увидеть те семантические признаки, которые «закодированы» в значениях. Они априори понятны человеку, живущему человеческой̆ жизнью в человеческом мире, но абсолютно непонятны искусственному интеллекту, для которого мы не в состоянии их раскодировать.
Оказывается, что значения слов-идентификаторов «предмет», «мебель», «сидеть», «сидение», которые используются в словарных толкованиях, содержат много сем, которые не заметны для непосредственного наблюдения. Но именно эти семы серьезно влияют на определение искомого значения…
Не следует думать, что фрагмент реальности, к которому принадлежит «стул», прост. Вот лишь несколько вопросов, на которые нет ответа, если мы ограничимся только компонентным анализом нескольких слов: что такое «пуф», «сидение», «кресло пилота», «автомобильное сидение», «стоматологическое кресло», «электрический стул»? А «седло»? А «кресло-качалка»? Слово, которое заставляет думать, что могут быть «стул-качалка», «пуф-качалка», «табурет-качалка». А «раскладной стул»? А «откидное сидение»? А «трон»? А «подставка»? Стул – подставка для нижней части туловища человека? А слова «лавка», «лавочка»? А «диван»? А «диван-кровать»? А «кресло-кровать»? Отличается ли «табуретка» от «скамейки» квадратностью сиденья?
А насколько осознан и вербализован в словарных толкованиях сам феномен сидения? В словарях находим: «сидеть» – «быть в таком положении, при котором туловище опирается на что-н. нижней своей частью» (ТСУ); «находиться, не передвигаясь, в таком положении, при котором туловище опирается на что-н. нижней своей частью, а ноги согнуты или вытянуты» (СО).
Оказывается, что сам феномен «сидения» неоднороден, разнофункционален. И «сидение на стуле» – это далеко не всякое сидение.
«Сидение» в словаре Брокгауза и Ефрона (ЭС) предполагает экономию мускульных усилий, предполагает более высокую меру комфорта. Иначе говоря, стул есть средство оснащения комфорта.
Вернувшись к формулировкам значения «стул», с которых мы начинали, понимаешь, что слишком много в них имплицитного, антропоцентричного, заведомо понятного человеку и непонятного компьютеру. В них, на мой взгляд, нет принципиально важной идеи комфортности положения в пространстве. Стул и ему подобные приспособления предназначены для обеспечения комфорта сидения и других положений тела. Стул и кресло различаются мерой комфорта, а не техническим устройством. Слишком много в простом слове «сидеть», которое должно быть априори понятно человеку, подводных камней. Для человека и животного «сидеть» означает «не стоять», «не лежать». Для птицы – это «не лететь» (тогда птичий стул – это насест).
Оказывается, что сидеть человек может по-разному. Оказывается, что сидение – это особая «техника тела» взрослого человека. Классификация техник производна от различных моментов дня, по которым распределяются сон и бодрствование, а в бодрствовании – отдых и активность. «Способ сидения имеет фундаментальное значение. Человечество можно разделить на сидящее на корточках и сидящее на каком-нибудь приспособлении. Среди тех, кто пользуется сиденьями, можно различать народы со скамьями и без скамей и подставок, со стульями и без стульев. Деревянный стул, поддерживаемый фигурами на четвереньках, распространен, что весьма примечательно, во всех регионах пятнадцатого градуса северной широты и экватора на обоих континентах». А «сидение на корточках» – «когда человек сидит, не имея опоры под ягодицами, согнув колени и опираясь на стопы»? А сидение «по-турецки»…
И здесь возникает вопрос о том, насколько феномен использования стула для сидения связано с феноменом сидения за столом?
Оказывается, что предметы для сидения могут иметь иное, отличное от стула, устройство. Вот, например, японский «дзабутон» – плоская подушка для сидения толщиной в несколько сантиметров квадратной формы размером 50–70 см (иногда со спинкой)! И сидят на дзабутоне особым образом: или в позе сэйдза – сидя на пятках и выпрямив корпус, или в позе агура – скрестив перед собой ноги.
Отметим, что в словарных толкованиях «стул» не выражен эксплицитно такой важный признак, как предназначенность для сидения, изготовленность для сидения. Этот признак отличает стул его от «подручных средств» для сидения (пней, бревен, перил, ящиков…).
Слишком много скрытых смыслов, не выразив которые эксплицитно, мы не сможем научить машину понимать нас. Причем, как видим, основные трудности таятся именно на высших стратах иерархии сем!
Оспорить все сказанное выше нужно и можно. Только природа знаний, порождаемых лингвистикой, от этого не изменится. Нельзя сказать, что эти знания не соответствуют реальности. Нет, дело не в этом.
На мой взгляд, для того, чтобы понимать сущность сложившейся ситуации, нужно различать две принципиально различающиеся вещи: высказывание о реалии и ее определение.
Высказываний о реалии может быть бесконечно много. И все они могут отражать действительно существующие свойства и качества. Например, «в слове «стул» есть звук «у». Это высказывание позволит включить слово «стул» в множество слов с буквой «у». Или, скажем, слово «стул» состоит из четырех букв. Полезная информация для составителей кроссвордов, но не более того.
Определение отличается от высказывания тем, что отражает сущность реалии. Ее главное качество. То качество, которое порождает само существование реалии в мире человека. Определение, по моему глубокому убеждению, задает правила обращения человека с реалией. Ни одна из словарных формулировок слова «стул» не способна быть его определением: слишком много важных свойств этого феномена остаются в этих формулировках в нераскодированном виде.
Причина такого положения вещей – не в несовершенстве толковых словарей. Подлинная причина заключается в том, что в традиционной и родной всем нам лингвистике господствует парадигма, которую я называю субстанциональной, то есть ставящей во главу угла «природные», субстанциональные свойства языковых единиц[9].
Все аналогии «хромают», и наша тоже. Тем не менее, слово «стул» не предназначено для того, чтобы быть объектом этимологического, грамматического и прочих описаний. Смысл бытия слова «стул» в системе русского языка заключается в том, чтобы быть номинативной единицей, т.е. знаковым выразителем определенного языкового понятия в определенных позициях номинации. Определение слова «стул» должно содержать, во-первых, точное, строгое, непротиворечивое описание языкового понятия ‘предмет для…’; во-вторых, перечень тех позиций номинации, в которых оно может быть использовано для именования соответствующих (т. е. заданных перечнем сем, формирующих языковое понятие) реалий.
Именно это знание и нужно «внешним» потребителям языковедческого знания. Обретение такого – функционального – знания позволит на новой основе организовать ту информацию, которую сегодня накопила лингвистика.
Сегодня же в социуме сохраняется весьма снисходительное отношение к тому, что лингвисты уже знают и знают наверняка. Для меня в этом отношении весьма показательна судьба фонемы [j] в школьных учебниках. В школе вообще достаточно легко относятся к изложению лингвистической теории. Но случай с «й» – вопиющий. Как правило, в школьных учебниках звук «й» определяется как мягкий. С моей точки зрения, это сравнимо с тем, например, если бы школьный химик называл хлор металлом, а натрий – газом.
Типичный учительский аргумент гласит, что различие между палатальными и мягкими фонемами не имеет практического значения для правописания. Нет!!! Имеет!!!
Если не знать, что «й» палатальный, то нельзя адекватно объяснить правописание разделительного твердого знака. Почему «подъезд», но «дело»?
Итак, «остановившись и оглянувшись», мы обнаруживаем, что порождаемое лингвистикой знание не выдерживает главного испытания для всякого научного знания – испытания практикой. Оно предназначено для «внутреннего потребления» и не может удовлетворить реальные потребности других наук. В этом – главная причина того, что лингвистика в общественном сознании занимает место, которое далеко не соответствует ее потенциальной значимости для человека и человечества. Мы – наука о «жи-ши», запятых и ударениях?
Что делать?
Преодоление старых парадигм сложный и болезненный процесс. Это противоречие типично для большинства работ, посвященных сходной проблематике: старые и подчас уже мифологические представления мешают адекватной интерпретации лингвистической реальности. Ситуация типична для истории науки. Случаи, когда миф мешает адекватному пониманию реальности, встречаются достаточно часто. Мне кажется показательным пример из XVI века. На протяжении долгих 14 веков истиной в последней инстанции для всех анатомов считались труды Галена, жившего в Древнем Риме. Ученым эпохи Ренессанса понадобилась отчаянная смелость, чтобы, например, опровергнуть утверждение Галена о том, что сердце человека состоит всего из двух камер и что между этими камерами есть отверстие. Благоговение перед авторитетом античного классика было настолько велико, что без малого полторы тысячи лет (!) ученые все как один подтверждали этот «факт». Полагалось верить не своим глазам, а тому, по сути дела, мифу, который, однако, был подтвержден великим авторитетом. Подлинную бурю в ученом сообществе вызвала попытка бельгийского ученого Андреаса Везалия отнестись критически к утверждениям Галена…
На мой взгляд, прежде всего необходимо признать, что традиционная лингвистическая научная парадигма исчерпала свой эвристический потенциал. Субстанционализм, в моей терминологии, как способ восприятия языка не «работает». Лингвистика должна обрести последовательно функциональное восприятие своего объекта. Без этого мы так и не перейдем от классификаций к моделям, которых так ждут «внешние» потребители языковедческого знания.
Может показаться, что в этой статье больше вопросов, чем ответов… Это закономерно: подлинная наука представляет собой непрерывную череду вопросов. Окончательные ответы и абсолютные истины существуют только в мифологии.
Список условных сокращений
СО – Ожегов С. И. Словарь русского языка: около 53 000 слов / ред. и вступ. ст. Л. И. Скворцова. – М.: Оникс 21 в.: Мир и образование, 2007.
БТС – Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2000.
ТСУ – Толковый словарь русского языка: В 4 т / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М. : Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935–1940.
ЭС – Энциклопедический словарь / Под ред. И. Е. Андреевского, К.К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского; Изд. Ф. А. Брокгауз [Лейпциг], И.А. Ефрон [Санкт-Петербург]. – СПб.: Семеновская Типо-Литография И.А. Ефрона, 1890-1907.
[1] Васильева О.Ю. Текст интервью Министра образования и науки России телеканалу RT (27.09.2017). – URL: https://минобрнауки.рф/пресс-центр/11083 (дата обращения: 22.09.2018).
[2] Крылов И.А. Басни; худож.-оформитель О.Н. Артеменко. – Харьков: Фолио, 2012. – С. 29.
[3] Рудяков А. Н. Лингвистическое знание: только для лингвистов!? // Сборник научных статей к 80-летию И. С. Улуханова / Отв. ред. М. А. Малыгина. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2015. – С. 559–570.
[4] Полевой Б.Н. Повесть о настоящем человеке. Доктор Вера. – Л.: Лениздат, 1980. – 560 с. – («Библиотека Лениздата»).
[5] Маршак С.Я. Кошкин дом. – М.: Малыш, 2014. – 64 с. – («Библиотека начальной школы»)
[6] Сахарный Л.В. Как устроен наш язык. – М.: Просвещение, 1978. – 160 с.
[7] Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. – М.: Главная редакция восточной литературы Издательства «Наука», 1971. – 294 с.
[8] Соколовская Ж.П. «Картина мира» в значениях слов: «семантические фантазии» или «катехизис семантики?». – Симферополь, 1999. – 232 с.
[9] Язык, или Почему люди говорят (опыт функционального определения естественного языка). – Киев: Грамота, 2004. – 224 с.