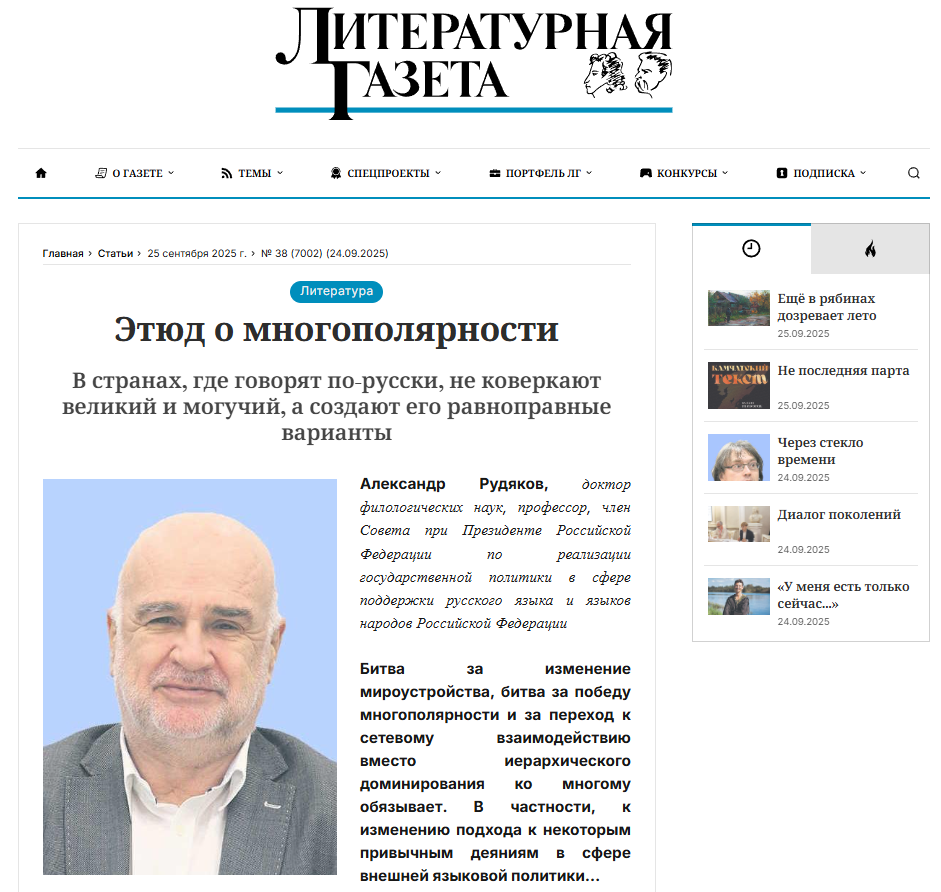С предложением возглавить научно-методический совет ФГБНУ «ФИПИ» к А.Н. Рудякову обратился руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки А.А. Музаев.
Научно-методические советы являются одной из форм участия профессионального сообщества в совершенствовании научно-методического обеспечения государственной итоговой аттестации, а также иных процедур оценки качества образования.
Основными задачами научно-методических советов являются:
- обсуждение научно-методических подходов к разработке экзаменационных моделей контрольных измерительных материалов по учебным предметам;
- экспертиза проектов документов, регламентирующих разработку контрольных измерительных материалов (кодификаторов, спецификаций и демонстрационных вариантов КИМ) по учебным предметам; обсуждение поступивших в ФГБНУ «ФИПИ» экспертных заключений по указанным проектам документов; экспертиза открытых вариантов КИМ, перспективных моделей КИМ, аналитических и научно-методических материалов;
- обсуждение основных направлений совершенствования научно-методического обеспечения государственной итоговой аттестации, а также иных процедур оценки качества образования.